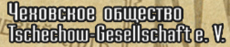№6/3, 2010 - Поэзия
Дмитрий Воденников

Автор фотографии Воденникова - Ольга Паволга
ЧЕРНОВИК
(полная версия)
Единственное стихотворение 2005 года
О, этамукадетскихфотографий
людей, которыхмылюбилиилилюбим
(всеэтиуши, ёжикиилбы),
онаневтом, чтовсеони— жемчужны,
невтомона, чтомыим— ненужны,
автом, чтомыпронихужевсезнаем,
аимневидно— собственнойсудьбы.
Ну, вот я и вернулся сюда — в тридесятую эту весну,
в тридцатисемилетнюю пыль, в лопоухие столбики счастья...
— Я хотел рассказать тебе там ,
а теперь расскажу тебе тут ,
про двух мальчиков, двух медвежат, про двух девочек, Рому и Настю...
Всех прекрасных, сопливых, больных, безработных, нездешних, не наших,
я собрал на апрельском, на майском своем корабле —
бедный мальчик в крапиве (с мечом деревянным)
+ Света, и Саша,
бурундук сумасшедший и девочка на колесе...
Только не было сил у меня быть огромной дощатой скворешней
и тянуть соловьиный кадык в лопушнях золотых неудач...
— Это кто ж, интересно, у нас
тут такой неземной и нездешний?
— Это я, это я тут у вас — весь такой неземной и нездешний,
потетешкай меня, послюни, ткни мне в пузо цветной карандаш.
Потому что я тоже смотрю из своей лопоухой весны
на ужасную взрослую жизнь — и никак не могу наглядеться:
сколько разных, прекрасных, родных —
я когда–то любил и забыл,
в 21 столетье своем, в ненасытном твоем королевстве.
...Бурундук малахольный помрёт, мы схороним его на углу
на медвежьем июньском углу, где сцепились малина с крапивой...
— Я вернулся сюда посмотреть
(потому что потом не смогу)
на корабль, на двух медвежат, на двух мальчиков — Олю и Диму.
ЧЕРНОВИК
потомучтостихинерастуткакприличныедети,
апрорастаютночью, междуног,
итолькоразрождаютсявстолетье
поэт–дурак, поэт–отец, поэт–цветок
1.
Да, вот именно так (а никак по–другому)
ушла расплевавшись со всеми моя затяжная весна,
и пришла — наконец–то — моя долгожданная зрелость.
Только что ж ты так билось вчера, мой сытое хитрое сердце,
только что ж ты так билось, как будто свихнулось с ума?
...Я стою на апрельской горе — в крепкосшитом военном пальто,
у меня есть четыре жизни (в запасе), у меня есть письмо от тебя:
«Здравствуй, — пишешь мне ты, — ясерьезнобольна,
Иуменянетжизнивзапасе.Завтрауменяхимиотерапия.
Однакояпостараюсьвыжить, ябудубороться.
Тыже— постарайсябытьсчастлив.
Живи, повозможностирадостно.
Иничегонебойся.» — Ну вот я и стараюсь.
2.
Ну так вот и старайся — вспотевший, воскресший, больной
записать эту линию жизни на рваной бумаге
(электронной, древесной, зеленой, небесной, любой)
и за это я буду тебе — как и все — благодарен.
Сколько счастья вокруг, сколько сильных людей и зверей! —
... вот приходит Антон Очиров, вот стрекочет Кирилл Медведев,
а вот человек (пригревшийся на раскаленном камне), несколько лет нёсший возле меня свою добровольную гауптвахту,
с переломанной в детстве спиной, сам похожий на солнечную саламандру,
на моё неизменное: «бедный мой мальчик»,
отвечавший —
«нет, я счастливый»...
3.
Эти люди стоят у меня в голове,
кто по пояс в земле, кто по плечи в рыжей траве,
кто по маковку в смерти, кто в победе своей — без следа.
Эти люди не скоро оставят меня навсегда.
Ну а тех, кто профукал свою основную житейскую битву
кто остался в Израиле, в Латвии, в Польше, в полях под Москвой,
мы их тоже возьмем — как расcтрелянную голубику
на ладонях, на солнечных брюках и юбках, — с собой.
4.
... Мы стоим на апрельской горе — в крепкосшитых дурацких пальто,
Оля, Настя и Рома, и Петя и Саша, и хрен знает кто:
с ноутбуком, с мобильным, в березовой роще, небесным столбом,
с запрокинутым к небу прозрачным любимым лицом
(потому что все люди — с любимыми лицами — в небо столбы).
Я вас всех научу — говорить с воробьиной горы.
5.
Здравствуйте, — скажет один. — Я единственный в этой стране
защищавший поэзию от унижения,
наконец–то готов подписаться под тем, в чём меня упрекали:
— Да, это всё не стихи,
это мой живой, столько–то–летний голос,
обещавший женщине, которую я любил, сделать ее бессмертной,
а не сумевший сделать ее даже мало–мальски счастливой...
— Здравствуйте, — скажет второй, — если когда–нибудь в дымный апрель
выпив полбутылки мартини (или чего вы там пьете? )
вы вдруг вспомните обо мне, затосковав о своей несбывшейся жизни, —
НЕ СМЕЙТЕ ОТКРЫВАТЬ МОИ КНИГИ,
НЕ СМЕЙТЕ ВОСКРЕШАТЬ МОЙ РАССЫПАННЫЙ ГОЛОС,
НЕ НАДО БУДОРАЖИТЬ МОЙ ПРАХ.
— Потому что я любил вас гораздо больше, чем вы меня, — скажетчетвертый, —
да и нужны вы мне были, гораздо больше, чем я был вам нужен,
и поэтому я не буду вырывать у вас палочку победителя.
(да и какой из меня теперь победитель? ).
6.
...Однако,
так как на роль человека с трудной мужской судьбой претендую всё–таки я,
то всё что останется мне — это выйти вперед,
наклониться к людям (ближе других) и сказать:
— Дорогие мои, бедные, добрые, полуживые...
Все мы немного мертвы, все мы бессмертны и лживы.
Так что постарайтесь жить — по возможности — радостно,
будьте, пожалуйста, счастливы и ничего не бойтесь
(кроме унижения, дряхлости и собачьей смерти,
но и этого тоже не бойтесь).
7.
Потому что всех тех, кто не выдержал главную битву,
кто остался в Париже, в больнице, в землянке, в стихах под Москвой,
все равно соберут, как рассыпанную землянику,
а потом унесут — на зеленых ладонях — домой.
МОИ ТЕБЕ ЧУЖИЕ ПИСЬМА
Один человек, страстный садовод, пытался натянуть нити вдоль грядок,
на которых он посеял салат- латук, для того, чтобы защитить его от птиц.
Его жена вернулась из магазина и обнаружила паутину из нитей,
завязанных сложным и бессмысленным образом, вне зависимости от направления грядок.
Это был первый признак того, что в последующем оказалось слабоумием.
(Из книги по психиатрии.)
— Закрыв глаза и посмотрев на свет,
на белый свет, продольный и огромный,
скажу: — Мне было шесть,
а стало тридцать шесть,
а что там между — я уже не помню.
1.
.............
................
.................
.............
.....................
....................
.................
..............................
...........................
2.
Есть такое понятие «открытые блоги», электронные дневники.
Раньше были дневники Шелли, Байрона, потом Марины Цветаевой, потом Анны Франк
(девочки спасавшейся от фашистов в нидерландском подполье),
а вот теперь наши —
открытые всем ветрам: простые, загадочные, тупые, как лопухи у дороги...
Вот девушка пишет: окакяхочууехатьотсюда!—
а потом узнаешь, что это была ее последняя запись
(ее вроде изнасиловали и убили),
а вот уже взрослая женщина пишет,
вспомная свое детство в советской больнице (ей нет еще 40):
«..яподошлакнейночьюиположилаейналицоподушку,
потомучтоэтобылмойединственныйвыход
таккакянемоглабольшетерпетьихуниженияипобои,
нояитеперьниочемнежалею»—
но всё не так страшно (как же не страшно? ),
чаще смешно, вызывающе, неинтересно...
3.
Едва осознана мужская красота,
но тут же схвачена и заперта в подвале.
— Скажи, что там осталось от тебя,
нецарский сын, князёныш и царевич,
в 1492 году, 20 сентября,
четырнадцатилетний Иван, семилетний Дмитрий Андреич?
— Ничего я вам не скажу, гуси- лебеди вы, дураки, —
отвечает князёныш (наверное, кареглазый),
во влажной рубахе, истлевший, из самой земли...
...А я пишу тебе второе письмо: «Здравствуй,
видно, чего- тосильномненехватиловэтойжизни(илихватиловышекрыши)
еслия— кчеловеку, которыйктомужеимладшеменя—
обращаюсьсприказом, нет, стребованияем— пониманияипощады»..
4.
В этом смысле — открытая жизнь, подорожники, лопухи
становятся невиданным опытом (всем предшественникам непонятным):
— Всё тайное когда- то становится явным, — говорят нам они.
— Нет, всё тайное становится явным сегодня, — им отвечаем мы
из лопухов подзаборных, из- под лютиков неопрятных.
— Сам подумай, что именно ты много- много столетий спустя
перепутаешь леску, морковку от птиц охраняя,
оглянешься, увидишь: стоит у калитки твоя молодая жена,
а ты даже не вспомнишь, как звать ее — Наденька? Рая?
5.
Ты мне пишешь: «...Ятебененужнакакженщина, какживоетело, какживаядуша.
Ятебенужнакакстихотворенье.
Иты, неосознаваявполноймересилусвоегомогущества, сделалэтимсвоимстихотворениемтак, чтоявсознаниидругихстала„умиратьнаглазах“, или— чтояужевообщекладбищенская„статуя“.
Удивляются, увидевживой.
Чегоужтутспорить, мраморноенадгробиеможетбытьнастоящимшедевром.
Твояроль„пигмалиона- наоборот“менянеобижает, нет.
Тынасамомделеневиноват.Янехочу, чтобытызапрошлоевинилсебя.
Простоимейввиду— мневполнехватитодногонадгробья.
Ибольшененадо, договорились? »
6.
Я тебе пишу: «...Мнеоченьпонятнатоскатютчева, когдаонидетвдольбольшойдороги.Потомучтоонвзываетккостямипраху.Иликангелу, чтовсущностиневажно.Онхочетнепотеретьсяпричиннымместомчерезфланелькубрюкоб этотпризрак, еслибытотявилсянамгновение.Онпростохочетегообнять.НОНЕМОЖЕТ.
Аямог.КакямогобнятьОлю, когдаонауходилапоулицепослевечера22декабрявОГИ, когдамыувиделисьпервыйразпослеразрыва.Мыстоялизамеревкакие- то10секунднатемнойулице, чувствуя, какбьетсяунасчеловечьесердце, номызнали, чтоближенасуженикогонебудет.Ичтоизменитьничегоневозможно.
ИСЕРДЦЕНАКЛОЧКИНЕРАЗОРВАЛОСЬ, — каксказалтотжеТютчев.
Нучтож, затотеперьоноразрываетсяпостоянно.»
7.
Ты — мне пишешь: «...ивот, вкучестарыхштрафовзанеуставнуюпарковкунашелтвоераритетноеписьмо. От15Июля2003года. Распечатканапринтере. Письмо, понятноедело, былопрощальным.Зачемяегонекогдараспечатал—
незнаю.Наверноехотелпорыдатьнаднимвлопухах, нопоживостинатурыотвлексяизабыл.
Аможетвсежеипорыдал, потомучтоонобыловкаких- торазводах(ялюблюразбиратьпочтувросистыхполях).
Ктознает— уженевспомнить.Ичтояподумал?
Чтоэтотвоестаринноесомнойпрощаниеномертритыщисороксемьтакжесоотноситсякнашему настоящемупрощанию, кактотчерновиккготовомупродукту.»
8.
Вот и мы точно так же строчим эти письма — к тебе, ни к кому,
к никуда, в ни зачем — как китайские Gucci и prada.
— Жизнь прожить, не запачкав подошвы, нельзя никому,
у меня на подошвах — две бабушки, мама и Прага.
9.
Но покуда — в 12 раз, поимённо (имейте ввиду)
огрубевший, медовый, июльский, тупой и медвежий —
в 21 столетье цветет, распускаясь у всех на виду,
мой единственный письменный ты ,
мой бессмысленный стихотворешник,
10.
и покуда над этим над всем — над проплешинами земли,
над Древней Русью, над петровской Россией, над Советским Союзом, над новой Россией плывет,
неважно кому адресованное (да я и не помню): маме ли, Лене, отцу ли, сестре или Коле,
(потому что всё это сейчас мне важнее — всех наших любовных историй), —
мое золотое письмо,
я сажусь и пишу:
...Ивоттолькотогдачерезсутки, ужевмоскве, заминуту, какпришлатвоясмс- ка,
явдругпонял, ЗАЧЕМЯЕХАЛТУДА.
Черезвсемесяцы, всекилометры, черезэтитридня.
Яехал, чтобпосмотретьнатебявупор.
Ичтобыобнять.
Оченьможетбыть, чтовпоследнийраз.
Кактогданаулице, вподнебесномаэропорту.
Простотак:непо- братски, непо- дружески, некаклюбовник, инекакбывшийлюбовник.
Атакпросто— надесятьсекунд, какбудтобынавсегда.
Вотинтересно, стоитвсяэтагрудавремени, всеэтибезумныекилометрыодногодесятисекундногообъятья
апрель- июнь 2006
* * *
Я душный воздух пил в советской школьной форме,
а через двадцать лет в июле шла гроза,
а я сидел и рвал — с тоской и c корнем
из наших писем наши имена.
Я с кровью рвал, что было между нами,
как сорняки, когда в руках — земля:
фиолетово- желтый воденников, васильковая мелкая Аля,
подзаборная Лена — и красного с черным тебя .
Я всех швырял — перед грозой, в июле,
без права переписки так сказать:
папу, мачеху, маму, Андрюшу, Полину и Юлю
(почему- то мне именно Юлю особенно страшно швырять).
Но я сказал сестре: — Не бойся, дорогая,
сестра моя и брат, я — уходящий в тьму,
всех тех, кто жил со мной, благословляю,
лиловым брюхом, синеглазым краем,
грозой, ползущей в письма и в листву.
Наоборот — сквозь сон прерывистый и лживый,
под стук мяча и визги во дворе —
я слышу всё: вы счастливы и живы,
и вы намерены жить долго на земле.
Но что же делать мне с обрывком и осколком,
с куском, изорванным в сиреневую мглу,
от Сени, мальчика, от моего ребенка:
— ... меня, иглупуюлюбовьмою .
СТИХИ К СЫНУ
Мне приснился сегодня ночью ( ну почти приснился)
перед страшной душной грозой очень странный цикл.
Я сразу увидел его как некий многоярусный компактный куст, обсыпанный
белоснежными, синими и розовыми цветками.
Цветки были мелкими, а строфы короткими.
Сам же куст — был какой- то праздничный и веселый.
А главным героем этого цикла- куста был ты.
1.
Мне этой ночью вдруг приснился этот цикл:
и куст — квадратный, праздничный и мелкий
и папы с мамами, висящие на ветке
(как новогодние конфеты или белки),
и ты придирчиво невыбиравший их.
— Чего мудришь? — ( мне было непонятно
и я сказал тебе об этом со спины), —
ты повернулся и сказал мне: «Папа,
как хорошо, что ты со всеми не висишь».
2.
В 25 лет мне уже однажды снилось, что у меня есть сын, но я не умею его пеленать. Неосторожным движением я поворачиваю его головку так, что у него с отвратительным хрустом ломается шейный позвонок. Я слышу, как к закрытой двери с топотом приближаются люди и меня охватывает страх перед расплатой.
А он сидит у меня на руках — мертвый, какой- то неестественно прямой, голый (я держу его под попку, как младенцев вообще- то не держат, но он насамомделе очень удобно сидит), смотрит на меня какими- то взрослыми встревоженными глазами, гладит меня своей маленькой ладонью по лицу, как будто бы успокаивая: «Не бойся, папа, не бойся, всё обойдется. Они подумают, что я сам умер».
3.
Ты ждал меня среди взрослеющих детей,
единственный не прибавляя в росте
(не то, что б маленький, апростокакподросток ).
...Обидно, мне б хотелось повзрослей.
Я вижу куст из роз и незабудок синих,
из крупных катышков, из мелкого огня:
я говорю с тобой как с мальчиком и сыном,
а ты, как взрослый, смотришь на меня.
Я говорю тебе: — Мне, правда, непонятно,
зачем сейчас, в июле, пред грозой
ко мне пришел трехлетний, неприятный
немецкий мальчик, нерожденный мной.
Ведь мне не жаль тебя, я знать тебя не знаю,
мне только интересно, сколько ты
пытался вырваться из этого китая
(толкая мальчиков и девочек толкая)
чтоб дотянуться до меня — из темноты.
Но куст дрожит и сыпет дождик мелкий,
на нём ни пап, ни мам, ни даже белок нет.
Среди других детей ты не в своей тарелке:
тебе сегодня — девятнадцать лет.
С тех пор — как выпускник, надев дурацкий галстук,
у мертвого куста, соженного живьем
(в тот год июль гремел — и грозы были часты), —
все разошлись, а ты стоишь столбом.
Но новый куст зацвёл, сгоревшему на смену,
12 лет прошло, но вас на свете нет:
— Ну как мне звать тебяхотябы , недомерок? —
я говорю, а он молчит в ответ.
Когда- нибудь, нажравшийся цветами
я выплыву к тебе — не тем концом
вертлявой белкой и вперед ногами,
с счастливым и бессмысленным лицом.
К тебе, — мой старший, некрасивый мальчик,
чтоб для тебя быть вечно молодым
высоким немцем, розовым китайцем
таким же как и ты глухонемым.
4.
— Сразу хочу заявить, что это не война, не гибель мира, не фашизм и даже не хоспис. Но сегодня я попросил Настю и Рому завезти мне еды (потому что я сегодня не хотел выходить из дому)... Но ровно в 11 вечера выяснилось, что Настя не получила мое смс, а Рома уехал в Питер. Вывод: нужно было заводить семью, Дима. Потому что любая ажурность— всегда останется только ажурностью. Рано или поздно ты окажешься один, без продуктов, без взаимных иллюзий и главное без предупреждения.
Невинный случай, который даже репетицией старости и безработицы не назовешь. Так... предзакатный пустячок. На почве разбаловавшегося самосознания. Однако, я ни о чем не жалею. К тому же я всегда любил одиночество.
— Папа, окакомодиночестветыговоришь? Вморозилкеестьзамороженныеовощи, япринесихещевчера.Иготовоемясо.Хлебтынеешь, язнаю.Новсеже— замечувскобках— таместьхлебцыиещепюреодноразовое.
— Это просто поразительно. Я им про то, что я космическая сирота в этом мире насилия и наживы, а они мне — о каких- то овощах и про одноразовое пюре.
5.
Адевочкаеврейскогонарода
(ирусского)сказалавсентябре,
чтоеслииубьетееприрода,
тотолькояблокомпоголове.
Как Н. Хрущев засеял кукурузой
все подмосковные совхозные поля,
так я засеял всю литературу,
в стихи натыкав — ваши имена.
Гроза уже ворчит над здешним садом,
лиловым брюхом не задев земли —
но здесь ни девочек, ни яблок нам не надо:
до них два мальчика еще не доросли.
Я назову тебя: не миша, коля, женя
(такие имена — для мертвых и живых),
я буду звать тебя: то Ося, то Арсений:
как близнецов — с футболкой на двоих.
Я смастерил для вас — шифрованный набросок,
кривой скворешник, книжку для детей:
для двух скворешников мне не хватило досок,
отцовства, времени, терпенья и гвоздей.
Когда мы жили на даче, отец водил меня в лес, в сухой ельник, и рассказывал мне про гамлета, а я слушал и разводил короткой палкой подозрительные грибы и мухоморы в стеклянной банке из- под венгерского горошка. Я подсыпал туда хвои и ландышей (белоснежные их пахучие головки) и этим снадобьем пытался напоить бабушку, чтобы она стала бессмертной.
Бабушка, разумеется, из банки пить отказалась, сказав, что предпочитает умереть как люди.
Однажды — когда я был еще совсем маленьким — я ждал папу и очень хотел в туалет. Я не научился (так и не смог) ходить на горшок в детском саду, у всех на виду. И всегда терпел до упора. Поэтому я приплясывал в конце смены на детсадовском дворе, выглядывая, когда же из ворот появится отец. Когда он наконец появился, я обкакался (от радости), а обкакавшись заплакал. От униженья. Но хотя вокруг было очень много ребят, никто ничего не заметил.
Еще я помню, что мне казалось, что папа очень мало любит меня и, если честно, стыдится. Поэтому когда однажды в Анапе в последний день перед отъездом (он перед этим читал мне один рассказ Мериме) он сказал, что хочет сфотографировать меня на прощанье, я решил, что у него в объективе спрятан маленький шпионский пистолет и он меня непременно застрелит. Без свидетелей. Он повел меня к морю (действительно пустынному), посадил на скамейку и прицелился. У меня до сих пор сохранилась эта фотография, где я сижу вцепившись руками в сиденье и внимательно смотрю в объектив. Понятно, что папа меня не застрелил. Но по крайней мере — теперь я знаю, как выглядит лицо человека перед расстрелом.
А еще...
Когда мне было уже 38 лет, я нашел книгу стихов моего дедушки, которую издал отец, когда ему самому было только 30 (собственно, столько же — сколько и дедушке, когда он эти стихи писал). Папа рассказал мне, что около 40 — он перечел эту книгу и неожиданно позвонил своему папе, захлебываясь от какой- то невозможной тоски и нежности. Там были такие стихи:
«..пускают мальчики бумажных голубей
И свято верят в невозможность расставаний,
А птицы рвутся в новые края
И режут синеву, перо роняя
И расстается „девочка моя“
с напополам разорванным „родная“..
Папа, неродственный в общем- то человек, сильно плакал в телефонную трубку и очень хотел сказать своему отцу, что любит его и понимает. То есть понимает, ч т о тот хотел сказать — тогда, тридцатилетним — в этих своих почти домашних стихах. Но сказать у него получилось плохо: когда мужчины плачут, они почти не умеют параллельно говорить (боятся, что голос будет звучать слишком высоко). Но дедушке, наверное, было приятно.
— Почемутыменядосихпорбоишься, Сеня, — спрашиваетменяиногдамойотец.
— Потомучтоутебяникогданебылодетей, папа, — отвечаюя.
6.
Я говорю тебе: — Ведь это я придумал
тебя из досок, ветра и огня.
А ты мне говоришь: — В 2076 году ты умер,
я умер — сразу после. За тебя.
Однажды летом — ярким как открытка
с грозой и молнией в середке, без конца —
я рухнул в обморок, ударившись затылком
в свое младенчество — без мамы и отца.
Но там увидел я — что я там тоже сплю,
измученный под марлей мошкарою:
не в силах даже шевельнуть рукою,
чтобы прижать ладонь к искусанному лбу.
Со всех сторон спеленутый конвертом,
в тугом кульке и с бантом на боку
я вдруг заплакал — сорока двухлетний
в своей коляске как в своем гробу.
И я сказал вам: — ОсяилиСеня,
запомни:всё, чтоздесьостанетсяотнас—
каких- нибудьпять- шестьстихотворений,
осенних, гулких, яблочных, весенних,
ниотчегонезащитившихнас.
— Зато — ты видел куст, смеющийся над нами,
весь в длинных катушках июльского огня:
вертлявых белок, тонущих в тумане
(то с темно- синими, то с карими глазами),
бориса дмитрича, двух братьев и меня.
«...Папа!Нуяжеуженепомнюэтотсвойсон— какисторию.Сначаломиконцом.Ивчемделобыло, ичемсердцеуспокоилось.Нуда, помнюлес, помнютебя, такиммоим, нопочтисовсеммальчиком, какнатойфотографиинапляже, когдаподотцовскимобъективомкакподприцелом, аможетбыть, чутьпостарше.Аятакой, какимясебечастоснюсь:такойвысокийбелобрысыйдядька.Икакая- тосила, котораятебеугрожает.Ичтоятебяхватаюикуда- тотащу.Чтомысадимсявкакой- топоездиидемсквозьвагоны, авагонывсеразные, естьтакие, каквэлектричках, аестьтакие, какзалывзамке.Иятебятащучерезвесьэтотпоездзаруку.Тыиспуган, заторможениотстранен.Иодинизвагоновоказываетсякаккомнатаслестницамикуда- тонаверх, ипоэтойлестницеспускаетсяоднамоязнакомая— театральная— вдлинномбархатномплатье, такомстаринном.Якидаюськнейипытаюсьчто- тообъяснить, просяукрытия.Икогдавсеэтоговорю, вдругпонимаю, чтоэтонеона, атасила, откотороймыспасаемся.Явыхватываюнож(именнонемеч, акакой- тодостаточнокороткийнож, потомучтопомню, каккакая- тожижастекаетпорукам), начинаюрубитьэтонечто, аоноуженемоязнакомая, ачто- тотакое, незнаю, какобъяснить, ...мерзкое.Акускисползаютсяисоединяются.Ияпытаюсьтебяприкрытьисказать, чтотыдолженсделать:бежатьобратно, атыстоишьтихийтакойипокорныйинеслышишьменя.По- моему, вродеятебявсежевытолкнулвтотвагон, изкоторогомыпопаливэтот, ноэтогояуженепомню...ТвойОся.»
*а самое главное: мне позавчера приснился (ну почти приснился, это было на грани сна и ужасной духоты) новый странный цикл.
Я вчера даже написал какие- то невозможные для меня три строфы (почти документально выцарапывая из пустоты ту картинку, которую увидел ночью). Вся сегодняшняя какая- то глупая история с чужой рецензией мне это выцарапывание перебило. И думаю, хорошо, что перебило. Возможно, что это была какая- то темная ловушка для полуспящих. А теперь она схлопнулась, скрутилась в точку, изчезла в стене.
Единственное, что я помню сейчас: что там был какой- то многоэтажный куст, обсыпанный одновременными синими, белыми и розовыми цветками. А также, что этот куст был гораздо больше меня.
12 - 19 июля 2006
* * *
Здравствуйте, УолтУитмен, здравствуйте, ЧарльзБуковски, —
АннаАндревночка, здравствуйте— иЕленаАндреевна, здравствуйте!
здравствуйте, МаринаИванна, здравствуйте, ЯнСатуновский.—
Янедлявасихвытаскивал, новамбыони— понравились.
Нет, не кончилась жизнь, самурайская вздорная спесь,
диковатая нахуй, стихи о любви и о Боге.
— Если кто не заметил, мои ненаглядные: яещездесь ,
сижу как бомж и алкоголик у дороги.
Господи, вот мой компьютер, вот брюки мои, носки,
а вот — шесть книжек с грубыми стихами.
Я их выблёвывал, как отравившийся, — кусками
с богооставленностью, с желчью и с людьми.
— Одно стихотворение (лежащее под спудом
и неписавшееся года два, как долг)
открылось только в нынешнем июле —
и вот оскаливает зубы словно волк.
Другое тоже завалилось за подкладку,
но я достал его, отмыл, одел в пальто
и наспех записал, оно — о счастье.
А пятое пришло ко мне само.
...Так что схлопнулось, всё! — дожила, дописалась книжка
в темных катышках крови и мёда, в ошметках боли
[ как сказала однажды подвыпившая директриса,
проработав полжизни в советской школе:
— Я люблю вас крепко, целую низко,
только, дети, — оставьте меня в покое...] —
и стою я теперь самсебе обелиском,
поебенью- травою счастливой во чистом поле.
— Я, рожавший Тебе эти буквы, то крупно, то мелко,
зажимая живот рукавами, как раненый, иступленно,
вот теперь — я немного попью из твоей голубой тарелки,
а потом полежу на ладони твоей — зеленой.
Потому что я знаю: на койке, в больнице, сжимая в руке апельсины
(...так ведь я же не видел тебя никогда из- за сильного света...) —
ты за это за всё никогда меня не покинешь,
и я тоже тебя — никогда не покину — за это.
февраль - 22 июля 2006
http://www.vodennikov.ru/poem/chernovik_polnostju.htm
>>> все работы Дмитрия Воденникова здесь!
|