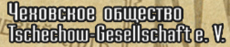№2/1, 2012 - Опыты прикладной поэзии и прозы
Борис Левит-Броун
ЕЕ СОН
(акварель)
Я вас любил когда-то?
Действительно, принц, мне верилось...
Вечера в нашей кухне.
Снаружи – минус 18 .
А ты себе кури около Её снов... её сна, размытого туманами побережья.
Вечная Ялта.
Массандровская тишь, линялый пароход любимой гостиницы, которая всегда сулит одно и то же – тишину, удобства, кукольно прекрасные дни. Мы приехали вдвоем на свидание с собственными иллюзиями, причалили к богу, ибо бог – это вера, а вера – это способность увлечься тем, чего не может быть.
Вежливые ступени, обрамленные швейцарами, вежливый холл и стойка портье, вежливый английский язык табличек. Мы попросили наш обычный номер.... ее обычный номер, потому что я, в сущности, был нуворишем и в этой гостинице, и в ее жизни.
Несколько разбитым от постоянного употребления, но тоже вежливым голоском, нам ответила девушка в форме.
– Не хотите попробовать Версаль?
Удивление куталось ожиданием, пока она вела нас через длинный гостиничный двор. Обогнув здание, мы сразу увидели его. Ничего французского. Скорей – большая серорезиновая лодка, наброшенная на низкие откосы и нависшая над отлившимся от берегов морем. Бетонное нечто, в два этажа высотой, почти касалось вод и ничем, кроме видимой ненадежности не радовало глаз.
Идти пришлось довольно далеко и это досадовало.
Вблизи оно было большим и неожиданно изящным.
Внутрь обдавал тишиной и, как ни странно, Версалем.
Нас вывели на веранду сплошного голубого стекла, в спине которой спокойно ожидали две прикрытые двери с номерами 201 и 202.
– Сюда, пожалста!
Дверь 202 посторонилась, пропуская ее и меня в золотую ослепь ялтинского полдня, мирно расположившегося на стенах, потолке и мягкой мебели доброго номера, которому недоставало стен от нахальства крымского солнца. Разинутость окон была совершенно беззубая и беззащитным показалось мне лицо чемпиона, вынырнувшее из-под затылка.
Это, несомненно, был он: его лицо, мохнатые брови и резкое появление лба на смену затылку, когда он поднял голову, открывая пространство еще в одной глубине, в глубине своих карих еврейских глаз. Чемпион мира по шахматам 1987 года истратил лишь несколько секунд на просчитывание комбинации неловкого молчания:
– А, что уже, а....... это... вы?
– Да, это мы! – был ответный ход настоящего мужчины. Пусть будет и за мной хоть одна дебютная удача.
– Как раз, собираюсь переселяться – извинялся он – здесь невозможно, балкон заливает...
Я поднял брови, покровительственно извиняя его неловкость, а Она подошла к балкону и распахнула Ялту прямо в номер. Полдень переменил позу в креслах и снова закемарил в один глаз. Мраморный балкон без перил ритмично одевался и раздевался морской пеной, волны покрупнее изредка нервничали в очереди и нахлобучивали друг на друга дополнительные овчины. Море приседало прямо напротив, то выставляя, то пряча сизую безволосую макушку. Она стояла по икры в воде и целовалась с огромными осетрами, которые прыгали вокруг как дрессированные болонки, резали ветер сабельным блеском, размахивали усами и тыкались острыми носами в Ее круглый. Одного из них Она попыталась схватить руками под жабры, но он заерзал у Нее в пальцах и шлепнулся в воду, досадливо ругнувшись брызгами. Она стояла, одичавшая от морской болезни, желтая от тепла и синяя от размокшей одежды.
Вся сцена напоминала свежевымытый графин.
Вдруг, балкон утомился осетровым сиганьем, сделал нетерпеливый жест, и море слизнуло их в суетливом приступе скромности.
Волна-уборщица тут же смыла с балкона веселый запах рыбы.
Изобразило штиль, и истощенный бриз начертал своим опавшим фаллосом приглашение к несчастью.
Представления о времени размокли.
Она ушла в ванную искать полотенце, чемпион пошел за ней. Я знал – зачем, и мне было жаль его чемпионского достоинства, хотя чуждым рассудком я сознавал, что живой человек, а не просто настоящий мужчина, едва ли думает сейчас о трудностях собственного достоинства.
Две длинноногие и законченно сновиденческие горничные (почему две?) под руки вывели меня на балкон, и, разбежавшись в стороны, стали подпрыгивать и падать на мрамор. Они явно подражали недавним осетрам, только воды на балконе было теперь лишь по щиколотку, и удары тел ничем не смягчало. Вымученные улыбки женщин, их разбитые колени и красные пятна на халатах, постепенно напитывавших влагу, производили во мне возбуждение и грусть. Я почти не был озабочен ловлей мокрых грудей, мелькавших в нарастающей распахнутости. В меня брызгало осколками пуговиц, и хотя падения на мрамор у моих туфель становились все настойчивее, я старался не слушать тупых ритмичных ударов, а лишь силился разобрать разговор, происходивший в это время в номере.
Чемпион держал ее плечи в ладонях и говорил вещи, едва доступные моему слуху. Она стояла вполоборота ко мне, но неудобно, как-то вывернув шею, глядела на меня из полумрака, в котором досыпал ялтинский полдень. Было очевидно, что ничего из того, что он предлагает, Она не хочет, что даже в эту минуту, когда живой человек сует Ей наспех собранный чемодан своей жизни, Она интересуется лишь розовой водой вокруг моих туфель. Ее лицо было подмостками нетерпения, на которых ставилась драма нежелания. Ее губы были полуоткрыты немым требованием оставить Ее наедине с Ее рабством, которое она ненавидела, с Ее равнодушным рабовладельцем, которого тихо не одобрял покрасневший балкон.
Море снова показало макушку и стало приседать за кромкой. Разбитые в кровь девочки запахнули мокрые халаты на изувеченных телах и тихо проскользнули к выходу. Полдень еще раз поменял позу и пошел на убыль, не просыпаясь.
Портье проводила чемпиона в его новый номер: “Сюда, пожалуйста, Гарри Кимович!”.
На балконе уже снова возился прибой.
Я прикрыл за собой двери и переоделся в сухое.
Через несколько минут горничная с забинтованными коленями принесла целую стопку сухих полотенец и развесила их в ванной. Пока она собирала с пола использованные, я заметил в распахе уже нового, сухого халата, вздувшийся и посиневший сосок.
Странно, как это она умудрилась удариться грудью?
Еще через несколько минут я вступил в свои рабовладельческие права. Когда я любил Ее, во мне было два желания – войти как можно глубже и там в глубине пожалеть.
Через час я проснулся от глухих ударов в балконную дверь.
Она спала, сломленная непосильным благом перенесенной любви.
Она казалась вдавленной в подушку.
Опять удар снаружи.
Я приподнял голову и увидел – высоко в окне прыгнул черноусый осетр.
1988 г.
Из цикла “Шаржи на древнегреческий пантеон”
ДЕДАЛ
Или это сказка
тупой бессмысленной толпы — и не был убийцею создатель Ватикана?
А вот он не виноват, нет!
Просто слишком долго не знал он себе равного.
Великий художник, творец дерзновенный, созидатель неслыханного.
Позади уже свершения и годы триумфа, бред непрерывного творчества, трепетная любовь сограждан. И тут, вдруг, этот мальчик, Тал, - племянник и ученик. Собрат по искусству. Афины уже прочат ему будущее, в котором потускнеет звезда великого Дедала. Вон он стоит, курчавый “моцарт”, так неосторожно стоит на краю высокого акропольского холма, на том самом месте, где когда-нибудь построит великий художник, потомок Эрехтея, беломраморное чудо. Оно уже волнует воображение Дедала... прихотливостью планировки и тихим сиянием строгих кор.
Но ты, юный полубог!.. Ты, так неосмотрительно....................
Сухим шахматным треском осыпались камешки.
Юноша рухнул со скалы, старик кинулся на помощь. Все было чистой случайностью. Все... кроме, может быть, слишком тонко рассчитанного расстояния, которым старик отделил себя от мальчика...
От самой возможности успеть.
Юноша рухнул.
Раскаленный воздух афинского полдня скрыл короткий крик.
Глядя с высоты на изувеченный труп далеко внизу старик просипел обожженным ртом: “Мальчик... куда ты?” Там, изломанный, среди камней, навеки безопасный, лежал тот, которому суждено было превзойти.
– Я не успел... просто не успел, – бормотал старик, и глаза его были сухи – ну поверь, я просто стоял слишком далеко...
И вот – изгнание.
Крит.
Двор легендарного Миноса.
Снова слава, снова дела художества и жизнь, лишь слегка омраченная воспоминанием о несчастном “моцарте” и о согражданах, которые не поверили в случайность, застукав Дедала закапывающим кровавое тело, судили и прогнали из Афин.
Впрочем, мало времени у главного художника минойского царства на разборы с совестью. Заботы при дворе, заботы и дома – об Икаре. Мальчишка растет совершенным балбесом. А тут еще у царя родился какой-то урод: не то козел, не то лошадь с признаками человека.
Царица в истерике... государство напряженно ждет, опустив глаза.
– Нет!.. – вскричал Минос, – уберите его! Наша кровь не может быть ответственна за капризы провидения! Пусть Дедал придумает, как....
И Дедал придумал, как.
Такого мифического, такого художественного изуверства и Тартар не видывал! Это был не дом, если только не называть Домом великий город, вытянутый в одну сплошную улицу, перепутанную узлами и петлями до безвыходности. Не была это и могила, если не именовать Могилой бесчисленные пути без надежды. Лабиринт зиял одним отверстием, которое было и вход и выход.
Но в действительности оно было только вход.
И замуровывать не надо.
Переступание порога равно неизбежному прощанию навсегда.
Главный художник и церемонимейстер царя лично надзирал за погребением.
Два длинных ряда копьеносцев, плотно сомкнув строй, стояли спинами друг к другу. Между рядами было оставлено пространства на десять локтей. Факелы были погашены. Безлунная ночь не оставляла никаких надежд, а малейшая попытка обернуться и открыть глаза каралась на месте.
Никто не обернулся...
Никто не открыл глаза.
И все равно ни один из них не вернулся домой.
Государственные тайны....
Где-то в глубине стены скрипнула медная решетка.
Топот мы услыхали почти сразу.
Тяжелый...
Земля дрогнула поочередно под каждым из нас, что-то грузное и горячее пропыхтело мимо, обдав нам спины выдохнутым паром. Чуть колыхнулись копья. В смертной тишине короткой паузы стало страшно. Потом глухие копыта земли сменились гулкими копытами Лабиринта, в который ворвался и навсегда пропал в нем долго затихающим ревом таинственный потомок Миноса, существо, которое так никто и не увидел ни разу.
Потом каждому из нас дали по кружке вина, странно отдававшего рыбой.
Но Дедал видел.
Он единственный не имел права закрыть глаза.
Ему вменялось или, верней, было августейше доверено убедиться собственными глазами в том, что “Оно” переступило порог забвения. Притаившись у крайней колонны дорического портика, торжественно фланкировавшего вход в преисподнюю, (ах, сколько изящества,... сколько совершенства непогрешимых пропорций вложил он в эту каменную мелодию! Разве они способны оценить эстетику тончайше найденного энтазиса!?!...), – притаившись у крайней колонны, чувствуя грудью тонкую кривизну ее мягко каннелированного тела, Дедал как всегда думал, (когда выпадало внутри пространство свободной мысли), о двух мальчиках. О том, которого он когда-то убил в Афинах и о том, который теперь ждет его дома. Тот, первый, гениальный и ненавистный... этот, второй, презренный и родной. Пройдет еще несколько минут, и надо будет спасать его... спасать тайной опрометью.
Спасать его и спасать себя от неминуемого вывода его величества: “Дедал видел, он должен исчезнуть. И сына – тоже.....”
Он думал о двух парах громадных крыльев из перьев, кожи и воска, сотворенных его легендарной фантазией, которая одна способна...
Покуда их будут бестолково травить на земле и на водах, они, как тени, бесшумно пронесутся в высокой ночи.
Громкий топот и влажное сопенье оборвали его мысли болезненным многоточием. Две струи пара обозначили ноздри чего-то, надвигавшегося на портик среди плотной кладки звездных спин. Дрогнули копья, тревожа ночное небо, и “Оно” пробежало мимо, припадая на передние копы... ла... ладони?
Обмерло перед черной дырою входа, принюхалось к слепому запаху, не похожему на запах жизни, дарованный так кратко. Хлестнул невидимую сырость коровий хвост. Далекая планета соскользнула с зеркального рога. Был ли другой рог, Дедал не разглядел. Его отвердевшие щеки судорожно искривила гадливая жалость: “Тоже ведь сын...”
А “Оно” уже догрохатывало задними копытами, уносясь все глубже в вечную загадку Лабиринта, которого разгадку по мнению критян знал один лишь Дедал, а, по мнению Дедала, не знал никто, потому что ее вообще не было. Еще раз скрипнула медная решетка. Процедура погребения была окончена.
Потом он взял большую корзину с кружками и мех с отравленным вином. Еще предстояло обойти строй, убедиться, что каждый выпил непременное для общественного спокойствия зелье, а уж потом, отлучившись на минутку, бросить все и бежать, бежать... лететь навсегда. Старик положил руку на плечо старшему и тот отдал команду открыть глаза.
А через час они уже парили над пухом туманов.
Смахивая с лица подвижные клочья, старик злорадно думал о ярости обманутого Миноса, представляя в лужах крови отрубленные головы солдат-убийц, не сумевших исполнить высочайшее повеление. Одновременно поглядывал за Икаром.
Сын летел рядом, не слишком ловко управляясь с привязанными к спине крыльями. “Надо было туже ...чччерт... туже надо было крепить! – нервничал Дедал. Слишком много ему воли в этих ремешках!”
Ночь отставала, а море надвигалось.
На прибрежном утесе они в последний раз отдыхали и перетягивали крепления перед самым долгим перелетом.
Крит отпустил их легко... не прощаясь.
Далее миф коротко сообщает, что Икару не удалось пересечь море.
Он не выдержал долгого полета, разбился о волны и утонул, а старый Дедал что-то там такое проклял и от чего-то отрекся навсегда.
По одной из существующих версий, в знойный сицилийский полдень, когда Брюллов, как раз, писал свою чернявую итальнку, срывающую лозу, на виноградники его величества, царя Сицилии, Кокала, с неба упал предмет, а через два дня во дворец доставили старика с необычным даже для Сицилии загаром, напоминавшим скорее ожоги. Старик был твердый, как деревянный, и только руки его, растопыренные крестообразно, с обрывками ремешков на плечах и запястьях, ритмично двигались, подражая крыльям. Старик был абсолютно невредим и безумен.
Речь его казалась связной, но смысл так и остался тёмен. Он говорил о солнце, которое топит воск, и о детях, которых лучше не иметь.
Он прожил во дворцовом лазарете пять лет и тихо умер.
О кончине его догадались по остановившимся рукам.
Говорить он прекратил года за два до смерти.
По другой версии, Дедал удачно долетел до Сицилии, хотя, правда, без попутчика. Он был, якобы, обласкан сицилийской монархией, и его не выдали Миносу, вторгшемуся на остров с немалым войском и нелепым требованием. Сам Минос даже якобы поплатился жизнью за преследование великого художника. Дочери сицилийского монарха пригласили свирепого критянина во дворец, притворно согласившись выдать Дедала, предложили Миносу ванну с дороги и сварили его в кипятке.
А Дедал якобы даже еще сумел возвратиться в Афины.
Вторая версия, на мой взгляд, менее правдоподобна.
Ведь Дедал, когда он убил своего ученика, был уже признанный художник и немолодой человек. Едва ли дожил бы он после критского изгнания и бегства на Сицилию до второго пришествия на родину. Да и Эрехтейон – беломраморное чудо с его прихотливой планировкой и тихим сиянием строгих кор – был воздвигнут на афинском Акрополе значительно поздней.
И совсем другим мастером.
ОДИССЕЙ
And never again
I’ll be sailing
Представляю себе, как он выглядел.
Маленький в сравнении с быстроногим Ахиллом, меньше даже проворного Диомеда. Загорелый, светлобородый, с оттенком стали в голубоватых белках.
Не мифический герой – мужчина.
С мужской жаждой первенства и неукротимой гордостью хитрого ума.
Он не устрашал, как шлемоблещущий Гектор, не ввергал в растерянный испуг, как гороподобный Аякс Теламонид...
Он волновал исходившим от него тонким запахом опасности.
Красивый хищник... ягуар.
Женщины сильно его любили, свидетельств тому сколько угодно. Всемогущая Цирцея одного его не посмела превратить в свинью.
Молила целый год и не могла воскреснуть.
Я думаю, она потому и обратила его спутников в хрюкающих, что была по сердцу добрая, а по нраву гордая. Истреблять пожалела, а стерпеть, чтобы какие-то мужланы смертные ее женскую горячку видели – этого тоже не могла.
А так и свиньи целы!
Весь год одиссееву команду на даровом прокорме держала и продиралась... продиралась через душную сельву своего «падения», отравленная тонким запахом опасности и защекотанная курчавой бородой.
То-то зелено было в цирцеином раю!
Представляю, как она перебивая сама себя хохотала и стонала от этой бороды и этих губ, как потом махала облегченно с бережка, провожая навсегда уплывающий корабль, а после шаталась, пьяная от воспоминаний, и улыбалась теплым, еще слегка сыроватым послевкусиям... грустила и вновь улыбалась, подбирая с лужаек свои колготки.
Царевне Навсикае – когда его истерзанного штормом выкинуло на берег – он показался прекрасным полубогом, и, схватив себя за груди, девушка до самой глубины пожелала его в мужья.
Судьба у Одиссея не героическая, нет!
Мужская судьба.
Не сокрушать стены или там, допустим, истребив армии, загинуть от роковой стрелы, а побывать и, уцелев, смыться.
Это ж только перечислить: с киконами в Исмаре подрался, у лотофагов его так окормили лотосами забвения, что он едва крышей не поехал, повыжигал глаза циклопам, (или циклопу... тогда – глаз!), от самого Эола мех с ветрами в подарок получил, впрочем, так и не сумел им путево попользоваться). Лестригоны, на которых корабли Одиссея где-то там наскочили ...ну, те банальные людоеды оказались, корабли попереломали, половину личного состава на обед употребили, а ему... хоть бы...
Сбежал.
Как раз после перепуга лестригонского произошла та самая оздоровительная пауза с Цирцеей. Впрочем, он паузу тоже затягивать не стал.
Далее миф извещает, что хитроумный зачем-то спускался к Аиду.
Точно причину установить не удалось. Принято считать, что отчаявшаяся
в своих женских щедротах Цирцея, напрасно соблазнявшая Одиссея бессмертием, устроила ему показательную экскурсию по подземному царству, чтоб он персонально ознакомился, какое у мертвых формльное положение и фактическое самочувствие. А я так думаю, было у него тайное честолюбие проверить на Аиде свой знаменитый хитрый ум. Так или иначе, но именно в этих подземельях повстречал Одиссей прорицателя Тиресия, который выболтал ему дальнейшие планы бессмертных: мол, достигнет он благополучно своей Итаки, если пощадит стада Гелиоса (из чего уже явственно пёрло, что ему на них наткнуться предстоит, и что, таким образом, маршрут ему наперед прописан). Ну, я думаю, хитроумный даже не удивился, потому что furbo o meno, а чтоб смекнуть, что все решается наверху, кому ума недоставало!?!
Так что поплыл он спокойненько дальше.
У острова сирен не отказал себе в остром ощущении, принял дозу.
Пришлось, правда, заранее веревками к мачте привязаться, чтоб в экстазе общего возбуждения чувств за борт не выброситься и не расстроить уже утверждённые перспективные планы бессмертных. Очень, говорят, ему понравилось сиренье вокальное тр ... одним словом, ансамбль. Да он и популярность большую в древней Греции имел, поскольку необычайно сильное эмоциональное воздействие на проплывавших мореходов оказывал. Так задушевно пели хищные птицы, что морякам, измученным тоской, этот вокал отзывался голосами близких, призывами тоскующих жен и подруг, (которые давно уж изменили их памяти с вполне осязаемыми сухопутными), нежными стенаньями грудных детей-херувимов, (которые за время десятилетней войны и бесконечных морских скитаний отцов успели вырасти и огрубеть, превратившись в потных нечесаных,на всё готовых мужланов или поганых, бессовестных, на всё согласных баб).
Но разве ж они думали... разве думают те, кто после многолетней разлуки торит трудный путь домой?..
Растерзанные приступами ностальгии, мореходы, случалось, бывали так безутешны, что сами в отчаяньи обрывали на себе мясо, так что побережье острова Сирен всегда белело грудами снежнобелых костей. Питались ли Сирены плотью несчастных слушателей или только пугливо взирали со скал на непостижимое человеческое самораздрание, – это никому не известно.
Кто проплыл мимо острова Сирен, никогда больше к нему не сворачивал, а кто остался на острове Сирен, остался там навсегда.
Между Сциллой и Харибдой Одиссей прошел уверенно.
Только шестерых в водоворот у Сциллы смыло, а сам он даже не забрызгался. Да и чего там страшного, подумаешь... два камня, немножко слишком узко расставленные! Дрогнет ли кормчая рука у того, который на самом Аиде умственные способности проверил?!
А вот дальше произошло то самое, от чего предостерегал болтливый Тиресий. Пристал Одиссей к острову Тринакия, где, как раз, паслись гелиосовы стада. Ну и, конечно, стосковавшиеся по говядине смерды лучших быков запороли, устроили жуткое обжорище, а в итоге... в итоге себе смертный приговор, а вожаку своему семилетнюю отсрочку оформили. Хоть быки и гелиосовы были, но испепелил безобразников лично Зевс. Прямо в корабль как глянет сердито, ну и... вот эти искры, что у него из глаз......
А Одиссей, конечно, спасся.
Это так миф вуалирует.
А я лично думаю, что после той обжорки хитроумный на корабль
– ни ногой.
Предвидел последствия.
Семь лет должны были показаться ему вечностью.
Попал Одиссей к Калипсо на остров Огигия.
Опять сработал запах опасности, голубая сталь белков и курчавая борода. Прекрасна была Калипсо, но и семь лет, согласитесь, – срок немалый!
А представить только, что у тебя под боком день и ночь мужик ноет – отпусти да отпусти! Сложное, что ни говори, для женщины положение. Ну... не знаю, – днями, по крайней мере, он ныл.
Говорят, даже камень на прибрежном утесе задницей отполировал, так тосковал, терзаясь гипотенузой горизонта.
Ведь семь лет!
Ушел он от Калипсо уже на плоту, то есть окончательно, так сказать, обносившись. Афина, вечно пристрастная ему пособница, пробовала было его без пересадок до Итаки протолкнуть, покуда Посейдон по другим делам отвернулся.
У него, у Нептуна, давно на этого грека зуб рос.
Пыталась – да не тут-то...
Заметил бородатый владыка и ка-а-а-а-ак уд-д-дарит древним греком о первые попавшиеся камни!
Оказался остров Схерия.
Вот так примерно и дела обстояли у Одиссея, когда впечатлительная девочка, Навсикая, заметила его на берегу среди щепок и тряпок плотокрушения. Заметила и приняла за “прекрасного бога”.
Или за полубога.
Ему, собственно, безразлично было.
Он после такого удара вообще отдыхал в полной несознанке.
А в страстных женских руках мужчина на все согласится да еще невесть кем себя вообразит. В этом самом статусе “не весть кого” околачивал Одиссей при дворе феакийского царя Алкиноя почти до самой свадьбы. Однако прямо перед венчанием вдруг неожиданно в себя пришёл, (может быть, это его пришли в себя сверху надзирающие, потому что негоже уж слишком искривлять мифологический процесс?!)... – вернулся, говорю, в себя, извинился перед разочарованной общественностью, дал на чай свадебному кортежу, а заплаканная Навсикая... чтож, она, наверно, думала, глядя вслед удалявшемуся кораблю, (дали, дали они ему корабль!): “Бог... прекрасный бог! Как нашла, так и потеряла”.
Она ж не знала, что у него судьба – вечно смываться.
Так что добрался Одиссей до своей захудалой Итаки, перемстил всех до единого женихов, которые в его столь долгое отсутствие категорически обнаглели и мало того, что на Пенелопу посягали женитьбой невольною, так еще и бражничали неумеренно в одиссеевом доме, расточая в разные стороны евойное имущество. После расправы над женихами педантичный хозяин дома аккуратно перевешал всех рабынь, которые тем паскудникам в их бесчинствах некультурно сочувствовали, далее подавил возникшее по этому поводу народное возмущение, а уж потом стал мирно жить да добро жать из любезных своих сограждан.
Как ни как, царь был!
По-ихнему – басилевс.
Одна подробность смягчает страданием этот непогрешимо мраморный праздник античного гуманизма. Когда под видом нищего Одиссей в первый раз ступил на свой двор после двадцатилетней троянской прогулки, лишь один узнал его. Тот, что щенком спал на хозяйской груди, тянул беззубой пастью за курчавую бороду, а то стоял, шатаясь на груди у хозяина ватными лапами, глядя бессмысленной сосредоточенностью в голубую сталь белков. Тот, что визгливым подростком, утомляя хвост, провожал античного героя на войну, которую верным собачьим чутьем с самого начала чуял как абсолютно бесполезную, (куда толковей было бы плескаться в Эгейском море, ходить с верным другом на охоту, а вечерами сидеть у очага, запустив руку в мягкие собачьи клочья, что друг, конечно, позволял бы в обмен на добрую сахарную косточку). Тот, что с самого дня проводов так и болтался на этом дворе, бегал, потом сидел, а потом уже только лежал, съев всю положенную на его собачью жизнь кашу, выпив всю воду, но не ощущая готовности умереть в отсутствие курчавой бороды, стальных белков и запаха ...запаха, который для него одного на свете был не запахом опасности, а просто запахом, без которого невозможно умереть.
Дворовый пес Аргус, которого все давно считали дохлым и не вышвырнули вон только потому, что его еще не облепили мухи, уже не мог подняться навстречу хозяину, потому что жил одними чувствами.
Глаза: да... это та борода и синяя сталь в прищуре......
Уши: да... это тот голос и скрип гравия под сандалиями ............
Ноздри: да... это тот самый запах, без которого невозможно было умереть – запах смерти.
И уши опали, захлопнув, как крышку рояля, глаза и ноздри.
А хитроумный глянул коротко, сосредоточенно высморкался и переступил родимый порог, за которым его ожидала не радостная встреча, а кошмар предначертанной мести.
* * *
" Челнок полегче должен ты найти,
..........................................гнев укроти.
Того хотят — там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати".
Вода тихая... серая.
Мы молчим.
Он гребет деловито, подчеркнуто сухо, всем видом демонстрируя формальное служебное отправление.
Старик недоволен, а я чувствую себя полным идиотом.
Ещё влезая в лодку, я заметил как она осела.
Рубец замшелости исчез в мутной волне, и влага стала быстро напитывать сухие доски.
– Живых не возим!
Наверно, ему обидней всего было то, что я сразу предъявил бумаги.
Но свидетель Зевс!.. я сделал это именно для того, чтобы облегчить старику противную необходимость, сразу определив казенную надобность.
Похоже, ошибся.
Надо было сначала – просьбой, лишь намекнув на официальное предписание. Пусть бы отказал, поворчал, покочевряжился... потребовал бы предъявить... Чем меньше у человека реальной власти, тем важней для него вновь и вновь утвержать своё немногое.
А я его, как раз, этого немногого и лишил – не дал насладиться черствыми крохами мнимой самостоятельности.
Старик обиделся и был прав.
Да тут вообще ехать-то... ну, то есть, плыть...
Ахеронт – речушка так себе.
Вонючая, правда.
АСКЛЕПИЙ
Тучнотелый сын Аполлона,
Полный факир
Пожелавший весь мир
Реанимировать,
И смерть принявший из дедовых рук.
Вечные муки не отменяются,
Не разрешается
Уметь всё, что хочется!
Два этюда из шаржа на Троянскую войну
1.
Переплетенья сюжета – пустые перипетии,
Ахилл удирает из Фтии, фетидина песенка спета.
Без знанья чего он стоит, спешит Диомеду навстречу
И любит кровавую сечу... и сердце Фетиды ноет.
И корчит судьба себе руки, бледная от соблазна,
Но наперед согласна на десятилетние муки.
Из долгого забалконья дождётся заветного лета,
Тронет сухою ладонью девственность Ахиллеса,
Нежной пятки коснется, перемешает стихии...
Сюжет непрямым остаётся – герой удирает из Фтии.
2.
Дуб заскрипел, свой покидая корень,
Стрела вонзилась в самый низ ноги.
Но он ещё стоял с древками вровень,
И замерли дрожащие полки.
Стекло белков изобразило рати,
Остыло солнце в ледяном поту,
Из старой ученической тетради
Он вспомнил: «Не забудь прикрыть пяту!»
Ах, не забыть пяту – великий боже!
Любимый, всеми славленный Зевес!
И полоснув мечом по сытой роже
Земли, упал убитый Ахиллес.
>>> все работы aвтора здесь!
|